Май-июнь 2019 года
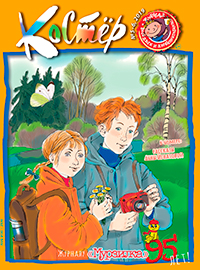
…

История исторических изречений
Доход с тридцати шести букв
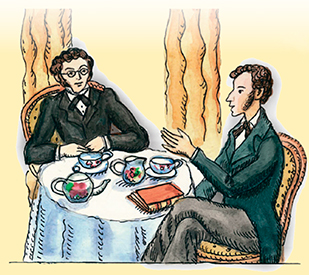
Внук академика Сережа Пятитомов вернулся из школы в чрезвычайно дурном настроении. На вопрос дедушки о причине такой мерихлюндии он ответил:
— Николай Борисович со своими диктантами совсем уже достал. Пишешь эти буковки, пишешь — сил никаких нет. А толку-то?
Тут в разговор вступил профессор Синицын, дедушкин соавтор:
— Позволю себе на этот счет рассказать маленькую историю. Однажды Александр Сергеевич Пушкин обедал со своим знакомцем, графом Александром Петровичем Завадовским, в ресторане «Донон». Когда пришла пора расплачиваться, заспорили, кто кого угощает. Победил в споре Пушкин, сказав: «Вы хоть и богаты, граф, но живете от оброка до оброка со своих деревень, а у меня доход постоянный — с тридцати шести букв русской азбуки».
— Это он о своих художественных произведениях, — догадался Сережа. — Но почему букв тридцать шесть? Их ведь тридцать три!
— Сейчас — да, — согласился академик, — а когда-то было на три больше. Существовали еще ижица, фита и ять. Совсем не нужные. Ижица в некоторых словах-исключениях обозначала звук и, фита — звук эф, а ять — е; следовательно, они были совершенно лишними. Ученикам приходилось просто зазубривать, где какую букву ставить.
— Это как смотреть на нужность, — возразил профессор Синицын. — Однажды император Николай I спросил Николая Ивановича Греча, автора прославленной «Русской грамматики»: «Чему в нашей азбуке служит буква “ять”?» «Она помогает отличить грамотных от неграмотных», — ответил Греч, не задумываясь.
| Николай Голь |
Художник Наталия Якубовская | |
| Страничка автора | Страничка художника |



