Июль 2006 года
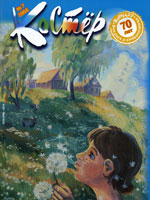
…
АГЕНТСТВО "ВАВИЛОН"
Главы из повести Перевод с французского Натальи Шаховской

От редакции. Издательский Дом "САМОКАТ" поздравляет "Костер" с 70-летием и дарит всем читателям журнала главы новой повести известного французского писателя Даниэля Пеннака из тетралогии о неугомонном, независимом и сильном духом мальчишке Камо. А о самом Даниэле Пеннаке вы можете узнать, прочитав статью "Власть книг и рассказчик историй" в рубрике "Аптека для души" ("Костер" N 11—12, 2003 г., стр. 26—27).
KAMO'S MOTHER
— Три по английскому! Из двадцати!
Мать Камо швырнула дневник на стол.
— И не стыдно?
Иногда она швыряла его так яростно, что Камо приходилось отскакивать, чтоб не забрызгало расплескавшимся кофе.
— Зато по истории восемнадцать!
Она одним круговым движением стирала кофейную лужу, и вот уже перед сыном дымилась новая чашка.
— Да хоть двадцать пять, это не причина, чтоб я глотала тройки по английскому!
Это был их постоянный спор. Камо в долгу не оставался.
— А сама? Кого вышибли из "Антибио-пул"?
"Антибио-пул", почтенная фармацевтическая фирма, была последним местом работы его матери. Она продержалась там десять дней, а потом объяснила клиентам, что девяносто пять процентов лекарств, которые фирма производит, — туфта, а на остальные пять цена вдесятеро завышена.
— Подумать только — все подростки во всем мире говорят по-английски! Все! Один только мой сын — ни в какую! Ну почему именно мой, почему?
— Подумать только — все матери во всем мире работают себе и работают! Все! Одна только моя нигде больше недели не удерживается! Ну почему именно моя, почему?
Но она была из тех женщин, которым только кинь перчатку. На эти слова Камо она весело рассмеялась (да, это они оба умели: ссориться и смеяться одновременно), а потом, ткнув в него пальцем, припечатала:
— О'кей, умник: вот прямо сейчас я иду искать работу, и найду, и буду за нее держаться, а ты через три месяца выучишь английский. По рукам?
Камо согласился не задумываясь. Мне он объяснил, что никакого риска нет:
— С ее-то характером она и смотрителем маяка не продержится: переругается с чайками!
Однако прошел месяц. Месяц, как она нашла работу — редакторшей в какой-то международной организации. Камо хмурился:
— Что-то такое насчет культурного обмена, насколько я понял...
Иногда она возвращалась с работы так поздно, что Камо приходилось самому ходить по магазинам и стряпать.
— Она и домой приносит папки, прикинь?
Я прикидывал, и вытекало из этого в основном то, что скоро моему дружку Камо придется основательно взяться за английский. Прошло два месяца, и лицо у него вытягивалось с каждым днем.
— Слушай, ты представляешь? Она и по воскресеньям работает!
И в последний вечер третьего месяца, когда мать зашла поцеловать его перед сном, Камо содрогнулся при виде ее ангельской торжествующей улыбки.
— Спокойной ночи, сынок, у тебя ровно три месяца, чтобы выучить английский!
Бессонная ночь.
Наутро Камо все же попытался сопротивляться, но без особой надежды.
— Как я могу выучить язык за три месяца, подумай?
Пальто, шляпа, сумка — она уже была в дверях.
— У твоей матери все предусмотрено!
Она открыла сумку и протянула ему листок, на котором оказался список каких-то имен, по виду английских.
— Это что?
— Имена пятнадцати адресатов. Выбираешь одно, пишешь ему или ей по-французски, он или она отвечает тебе по-английски, и через три месяца ты владеешь языком!
— Но я их никого не знаю, мне нечего им сказать! Она поцеловала его в лоб.
— Опиши свою мать, расскажи, с каким чудовищем тебе приходится жить, — может, это тебя вдохновит.
Сумка защелкнулась. Вот она уже в конце коридора, берется за ручку входной двери.
— Мам!
Не оборачиваясь, она ласково помахала ему на прощанье.
— Три месяца, милый, ни минуты больше. У тебя получится, увидишь!
KAMOS FATHER
Двумя-то языками Камо уже владел. Французский литературный и французский уличный, любые темы и вариации. Отношение к английскому досталось ему в наследство от отца.
— Не язык, а дребедень, малыш!
Но бывает, что отцы умирают. В больнице, в последний свой день, отец Камо еще нашел в себе силы посмеяться:
— Везет, как утопленнику... и было бы куда спешить!
Больница... до того белая!
Мать в коридоре разговаривала с врачом. Она мотала головой за стеклом — нет, нет и нет! Врач смотрел в пол.
Сидя в ногах кровати, Камо слушал шепот отца... его слова... последние.
— Характер у нее — ого-го, сам увидишь. Одно спасение — рассмешить, это она любит. А вообще, молчи в тряпочку и не брыкайся, она всегда права.
— Всегда?
— Всегда. Никогда не лопухнется.
Камо долго верил, что так оно и есть (что его мать никогда не ошибается). Но теперь он уже не был в этом уверен.
— На этот раз она лопухнулась. Никто не может выучить язык за три месяца. Никто!
— Но почему ей так приспичило, чтоб ты знал английский?
— Эмигрантская осторожность. Моя бабушка бежала из России в двадцать третьем, потом, через десять лет, из Германии, от психа с усами-свастикой. Так что ее дочь выучила добрый десяток языков и хочет, чтоб и я тоже, а то мало ли что...
Мы помолчали. Я проглядывал список адресатов: Мэйзи Ферендж, Гэйлорд Пентекост, Джон Тренчард, Кэтрин Эрншо, Холден Колфилд... и так далее, пятнадцать имен. Дело было в коллеже. У нас был свободный урок. Длинный Лантье заглянул мне через плечо:
— Список гостей? Устраиваешь вечеринку, Камо?
— Отвали, а то будет тебе вечеринка!
Длинный Лантье сложился, как аккордеон. А я спросил:
— И что ты будешь делать?
Камо пожал плечами.
— А что мне, по-твоему, делать? Что велено, то и буду делать, пропади оно пропадом!
Тут он чуть-чуть улыбнулся:
— Только на свой лад...
Его мать в тот вечер пришла поздно. Камо сидел, затворясь у себя в комнате.
— Ты здесь, сынок?
Она всегда стучалась к сыну. У них так было заведено — не мешать друг другу.
— Здесь.
Но дверь Камо не открыл.
— Не поужинаешь со мной?
В магазин он не ходил. Обеда не готовил.
— Я пишу.
Он услышал за дверью смешок.
— Роман?
Он тоже усмехнулся. Ему гораздо больше хотелось поболтать с ней, посмеяться. Но он только ответил:
— Никак нет, мамочка, я пишу моему адресату — мисс Кэтрин Эрншо. Там, в холодильнике, есть ростбиф!
DEAR BEEF
"Dear Cathy, дорогой ростбиф, именно так у нас во Франции называют вас, англичан: ростбифами! Считается, что вы такие все из себя крутые, что ваш идиотский язык — прямо международная феня. А по-моему, это вообще не язык: в каждой фразе проглатывается половина слов, в каждом слове — три четверти слогов, в каждом слове — четыре пятых букв. Остаток сплюнуть — как раз на телеграмму хватит.
Прелестная Кэти, любезный ростбиф, у меня есть великая цель: быть единственным, кто не говорит по-английски и говорить не будет! Ты скажешь — зачем тогда эта бодяга? Из-за моей матери. Мы заключили сделку. Я дал себя сделать. И обязан выполнить условие. А вообще, мои семейные дела тебя не касаются, иди гуляй. Пока, дорогая подруга по переписке. В случае, бели ты собираешься изучить французский язык, купи себе словарь. Да потолще. И не слишком парься насчет грамматики.
Камо.
P.S. Может быть, тебя интересно, почему я выбрал адресатом тебя? Агентство всучило моей матери список из пятнадцати имен. И я, зажмурив моргалы, метнул в него циркуль, он воткнулся в твое имя: Эрншо. Прямо в заглавное "Э". Ты ничего не почувствовала?"
Камо вывел адрес самым аккуратным почерком {Кэтрин Эрншо, агентство "Вавилон", абонентский ящик 723, 75013, Париж), наклеил марку и ночью же сбегал опустить письмо в почтовый ящик. Такого веселого завтрака, как на следующее утро, давно уже не бывало. Мать встала пораньше и купила рогаликов, и на работу ушла позже, чем обычно. Они болтали обо всем на свете, кроме английского. Камо обещал приготовить на ужин картофельную запеканку "с мускатом ровно по вкусу", какую готовил, бывало, его отец.
В коллеже он безмятежно объяснил мне:
— Я ей обещал, что напишу, и написал. Не могу же я обещать, что мне ответят...
Настроение у него было превосходное всю неделю. Длинный Лантье под это дело припахал Камо решать за него математику. Наш математик Арен отметил, что Лантье делает успехи. Похвалы с одной стороны, законная гордость с другой — хорошее настроение заразило весь класс, как всегда, когда оно бывало у Камо. Он даже одарил парой-тройкой улыбок мадемуазель Нахоум, нашу англичанку. Она улыбнулась в ответ, назвав его "my gracious lord".
Мы ее очень любили, мадемуазель Нахоум. На педсовете она всегда заступалась за отстающих: "Никто не может выучить иностранный язык, если ему нечего на этом языке сказать".
У меня было, что сказать мадемуазель Нахоум. Например, что она похожа на мою мать, — такая же молодая и почти такая же красивая. По английскому я был первым в классе.
Стало быть, целая неделя всеобщего хорошего настроения. Это было редкостью с тех пор, как Камо потерял отца. Неделя. Не знаю, могло ли так продолжаться дольше. Конец этому настал в тот день, когда Камо получил письмо из агентства "Вавилон": ответ Кэтрин Эрншо.
DIRTY LITTLE SICK FROG
В то утро он пришел в коллеж заметно возбужденный.
— Она ответила! Сейчас посмеемся!
Он протянул мне конверт, еще не распечатанный.
— Будешь моим официальным переводчиком, о'кей?
— Любовное письмо? — спросил Длинный Лантье, нависая над нами. Только на большой перемене мы смогли открыть конверт. И вот ведь совпадение: утро прошло под знаком Англии. Мадемуазель Нахоум дала нам великолепное описание викторианской Англии — викторианская мораль, фонари, туман, паровые машины, туберкулез — и посоветовала прочесть "Странную историю доктора Джекила и мистера Хайда", "in english, если можно".
А Бейнак, наш историк, начертал портрет республиканца Кромвеля, который произвел сильное впечатление на Камо.
В конверте агентства "Вавилон" оказался еще один, с английским штемпелем, из толстой, какой-то сероватой бумаги, на котором перед нами предстал почерк Кэтрин Эрншо. Нервный, резкий почерк. Местами перо продирало бумагу. И первый сюрприз... Перевернув конверт, чтоб распечатать, мы увидели, что он не заклеен, а именно запечатан маленькой печатью бурого воска. Камо оттопырил губу.
— Печать... понту-то, понту! Строят из себя аристократов, ростбифы вонючие.
Я подковырнул печать ногтем и развернул листок, вынутый из конверта. Он тоже был из толстой, грубой бумаги, как будто отсырелой на ощупь, и весь исписан тем же резким, стремительным почерком — строки, разогнавшись, загибались на поля, на точках перо аж брызгало, заглавные буквы вспарывали бумагу, вымаранные фразы — длинные, иногда на целый абзац — казались лиловыми шрамами (такие у нее были чернила: блекло-лиловые).
— Не письмо, а поле битвы какое-то! — пробормотал Камо, сдвинув брови. — Ну ладно, а что она пишет-то?
Вопрос прозвучал не так небрежно, как ему хотелось бы.
— Она называет тебя "dirty little sick frog".
— To есть?..
— "Грязный больной лягушонок".
Камо расхохотался так безудержно, что Длинный Лантье в три прыжка подлетел с другого конца двора.
— Я-то думал, что пишу зануде, а попал на родственную душу! Грязный больной лягушонок?
— Это нас так ростбифы называют: лягушатники.
— А ты лягушек ел когда-нибудь?
— В жизни не пробовал.
— Давай, переводи дальше; чувствую, она мне должна понравиться, эта девчонка!
Я прочел про себя первый абзац и, прежде чем переводить, не удержался и взглянул на Камо. Он уже не скрывал любопытства.
— Ну, давай же!
Вот что писала мисс Кэтрин Эрншо:
"Грязный больной лягушонок, не сомневаюсь, вам понравилось бы, если б я продолжала в том же духе; я чувствую, это в вашем вкусе. Так вот нет! У меня нет ни малейшего желания смеяться, равно как и развлекать вас.
Вам захотелось пооригинальничать, месье Камо (господи, до чего мальчишки моего возраста глупо ребячливы!), но, попав циркулем в мое имя, вы попали в беду".
Следующий абзац целиком зачеркнут. Камо больше не улыбался. Длинный Лантье от греха подальше бесшумно убрался на другой конец двора.
Повинуясь нетерпеливому знаку друга, я продолжал переводить:
"Вы спрашиваете, почувствовала ли я укол. Не знаю: в день, когда вы воткнули ножку циркуля в заглавное "Э" имени Эрншо, я была поглощена другой болью. В этот день умер мой отец, день в день, два года назад. Тот же ветер свистел вокруг дома и завывал в трубе. (Вообще-то, была буря, но, хотя никому не пришло в голову зажечь огонь, я не чувствовала холода.)
Сидя на полу у его пустого кресла, я читала ваше письмо. Наверное, вы догадываетесь, какое впечатление оно на меня произвело! Однако, читая ваши слова, злилась я на себя. Ваше глупое письмо напомнило мне, как я разговаривала с отцом вот в таком же тоне, как то и дело ради своих мелких прихотей пренебрегала его усталостью, ради своего желания казаться забавной — его покоем. Безмозглое детство — ничего не видит, ничего не чует, не знает, что люди умирают! А в последний вечер, когда я сидела у его ног, положив голову ему на колени (иногда такое бывало, когда я добивалась прощения за проказы, которые завтра же собиралась повторить), он, как раз перед тем как уснуть, погладил меня по голове и сказал: "Почему ты не можешь всегда быть хорошей девочкой, Кэти?" Это были его последние слова".
Тут Камо выхватил у меня письмо.
— Как это по-английски, вот эта фраза?
— Какая?
— Последние слова ее отца!
Я показал ему эту фразу: "Why canst thou not always be a good lass, Cathy?"
— "A good lass"? Что значит "lass"?
— Это шотландское слово, мадемуазель Нахоум нам говорила, "девочка, девушка" по-шотландски.
— Читай дальше.
"Больше мне вам сказать нечего. Вы отправили письмо, как будто камень кинули через стену: надо же вам узнать, куда этот камень упал. Ответа не жду.
Кэтрин Эрншо".
САТНУ, PLEAS, YOUR PARDON!
С обеда Камо в коллеж не вернулся. Вечером он позвонил мне, умоляя прийти к нему. Поп, мой отец, еле согласился отпустить меня. Дневник у меня был не в самом лучшем виде, а ему как раз вздумалось провести полицейскую проверку. (Иногда на него такое находило — в основном его интересовало, не задали ли нам сочинение. Сочинения — это было мое слабое место.)
— Поп, я ему правда очень нужен!
В конце концов, его убедил взгляд Мун, моей матери. И мое обещание вернуться не поздно. Мне открыла мать Камо. Я ее довольно давно не видал. Она выглядела усталой. Но глаза улыбались.
— А, это ты! Заходи. Камо у себя. По-моему, английским занимается.
Она сказала это таким естественным тоном, словно Камо всю жизнь занимался английским.
Он и правда был у себя, но не занимался. Шагал взад-вперед по комнате, бледный, зубы стиснуты. Ни слова не говоря, он протянул мне исписанный листок.
"Простите, Кэтрин, о, простите меня! Я не хотел причинить вам боль. Вы правы, я кинул камень, не глядя, как ребенок. Я не знал, что там окажетесь вы! Однако я уже не ребенок, мне четырнадцать лет, скоро пятнадцать, — мне нет оправдания. Кэтрин, я хочу, чтоб вы знали..."
И он снова пускался в извинения, объясняя, что это идиотское письмо ("идиотское" он зачеркнул, написал "дурацкое"), что это дурацкое письмо он адресовал в каком-то смысле своей матери, это было что-то вроде игры между ними, и он никого не хотел ранить.
"...И уж никак не вас, Кэтрин, никак не вас! И еще, Кэти, я хочу, чтоб вы знали — мой отец тоже..."
Дальше он рассказывал про своего отца, какой это был друг, какой виртуоз уличного жаргона, как они были счастливы втроем, пока он был жив, но вот болезнь, клиника — "Никогда не покрасил бы у себя стены белым!" — и последние слова отца, обращенные к нему: "Она никогда не лопухнется" (эта фраза с переводом)... И опять, и опять извинения... Все это — прыгающим почерком, таким же неистовым, как у Кэтрин Эрншо!
— Можешь перевести на английский?
Я так оторопел от прочитанного, что не сразу ответил.
Панический взгляд:
— Не переведешь?
Я с грехом пополам перевел письмо. Заглядывая мне через плечо, Камо следил, как я пишу.
— "Pardon", ты почему не переводишь "pardon"? Ты написал "pardon" по-французски!
— По-английски это будет так же, Камо!
— Точно? А нет чего-нибудь более... какое-нибудь слово, чтобы не так...
Он зашагал по комнате, подкрепляя слова жестами:
— Надо, чтоб она поняла, понимаешь, поняла правильно!
ME TOO
"Дорогой Камо, вы прощены, и я, в свою очередь, прошу у вас прощения. Я была с вами груба и жалею об этом. Правда, ваше письмо пришло в такой момент, что хуже не придумаешь. Во-первых, эта печальная годовщина, а к тому же атмосфера, которая царит здесь с тех пор, как главой семьи стал мой брат Хиндли. Он настоящий скот, при этом слабодушный (да, слабодушный скот!), и мучает окружающих, потому что сам себе противен. У вас во Франции такие бывают? Я, например, сомневаюсь, чтоб во всей Империи существовал еще один такой Хиндли. Вот бы о чем спросить нашего славного капитана Кука, правда? "А скажите, Джеймс Кук, не попадался ли вам образчик Хиндли на Сандвичевых островах? Нет? А может быть, на Новой Земле? Или в Новой Зеландии?"
Как видите, сегодня у меня настроение получше. Вас я окончательно простила. Теперь должна вам кое в чем признаться: я тоже не имела ни малейшего желания изучать иностранный язык. (Зачем, если я никогда нигде не бываю?) Это моя невестка Фрэнсис послала мое имя в агентство "Вавилон". Говорит, чтоб мне было не так скучно! Мне никогда не бывает скучно! Правильнее было бы сказать — чтоб занять мой ум. Да. Им хотелось бы занять мой ум, чтоб я забыла о X., им хотелось бы изгнать его из моих мыслей, из моего сердца, заставить меня закрыть глаза на то, как дурно с ним обращается Хиндли (вчера так избил, что Джозеф, и тот вмешался и оттащил его. Не то убил бы!).
Изгнать X. из моих мыслей? Все равно что просить меня забыть саму себя! Сначала я поклялась, что никому писать не стану. Потом пришло ваше письмо. Отозлившись, я почувствовала в нем сильную волю, характер, близкий к моему и в смехе, и в гневе, а также возможность довериться другу, который не предаст. В качестве предосторожности я, тем не менее, послала вам тот ответ, который вас так расстроил. Теперь я знаю, что у меня есть друг. Друг, с которым я могу говорить про другого моего друга. Здесь после смерти моего отца все не замечают X. или ненавидят. Вы согласны, чтоб я вам рассказывала про него? Про то, как нам с X. живется в этом доме, а жизнь у нас, заранее предупреждаю, не из веселых.
Дорогой Камо, учтите, ваша роль наперсника будет неблагодарной. Так что оставляю выбор за вами и, если не ответите, не обижусь.
Кэтрин.
Р.S. Если все-таки решите мне отвечать, пишите по-французски. Ваш английский оставляет желать лучшего. И еще объясните мне одну загадку: вы употребляете, даже на моем языке, некоторые слова, смысл которых мне совершенно неизвестен. Вы упоминаете какое-то "метро" ("в метро, когда мы ехали в больницу"), какие-то "телефонные разговоры"...
Метро? Телефонные? Вы не могли бы истолковать мне эти слова?"
Камо выслушал мой перевод молча. По мере того, как я читал, лицо его разглаживалось. В самом деле, за неделей хорошего настроения последовала просто-таки адская. Он ждал этого письма в таком нетерпении, в такой тревоге, что бедняга Лантье едва осмеливался попадаться ему на глаза.
— Ты чего, Камо? Что я тебе сделал?
Теперь он успокоился, даже как-то просветлел. Что-то вроде торжественной радости. Немного погодя он спросил:
— Почему ты мне выкаешь?
— А?
— Почему ты, когда переводишь, называешь меня на "вы"? Кэти ведь может мне и "ты" говорить! "You"... разве не так?
Он смотрел на меня в упор. {Очень характерный для него взгляд: вроде он и здесь, и в то же время где-то далеко.)
Я даже не сразу нашелся, что ответить.
— Камо, да неважно, в письме важнее не это!
— Да неужели? По-твоему, это неважно. Ну-ну...
Он хмыкнул, сложил письмо, убрал в конверт, не сводя с меня глаз.
— Значит, если я стану тебе выкать, ты сочтешь, что это неважно?
С такой это иронией. Я знал, что спорить бесполезно. И что Камо не остановишь, если его понесло. Он продолжал тем же тоном, так же глядя на меня:
— Должно быть, не больно-то ты здорово перевел...
Любимый друг начинал действовать мне на нервы.
— Кстати, сам видишь, что Кэти пишет: английский-то у тебя не ахти!
Я целый вечер убил, переводя это письмо, — для него, между прочим! Так что тут я очень мирно и спокойно, взявшись за ручку двери (мы были в его комнате), ответил так:
— А пошел-ка ты сам знаешь куда, сам переводи, раз такой умный!
MY GOD!
И больше я не переводил ни одного письма Кэтрин Эрншо. Камо занялся этим сам.
Уж английский он учил, так учил! Да быстро! Да здорово! Чуть выпадал часок свободный — он проводил его с мадемуазель Нахоум.
— Мадемуазель, у меня нашлось, что сказать по-английски!
Она ни о чем не спрашивала. Когда он предложил платить за эти частные уроки, изящно отказалась:
— Лучшей платой будут ваши успехи, little Камо.
И плата не заставила себя ждать! Кривая успеваемости Камо полезла вверх, как температура летом {скоропалительное лето после затяжной зимы!). Для общества он был потерян. Все сидел где-нибудь в углу, зарывшисьв один из толстенных словарей, которые дарила ему мать. А он все время просил ее покупать еще новые.
Мать Камо, надо отдать ей должное, торжествовала очень умеренно. Даже была обеспокоена:
— Ты бы хоть передохнул, милый, я же тебя просила учить английский, а не превращаться в англичанина!
Он ничего не отвечал, и она призывала в свидетели меня:
— Вот ты, хоть ты ему скажи, что нельзя столько заниматься! В кино его вытащи, что ли...
После чего возвращалась к своим бумагам. Потому что она тоже все раньше и раньше бралась за работу и все позже и позже за ней засиживалась. Хорошо если раз в день им случалось перемолвиться хоть словом. У обоих свет горел до зари — Камо рылся в английских словарях, его мать — в папках из агентства "Вавилон", становившихся чем дальше, тем толще.
В сущности, все были довольны и счастливы. Мадемуазель Нахоум, Камо, его мать...
Один только я был обеспокоен. "Обеспокоен" — это еще слабо сказано.
Не по душе мне была эта история, и все тут!
Еще при чтении второго письма Кэтрин Эрншо где-то у меня внутри прозвонил первый звоночек, вроде сигнала тревоги. Он подкрепил неуютное ощущение, вызванное необузданным почерком ее первого письма. И уже не умолкал. Напротив, по мере того, как проходила неделя за неделей, он становился все громче, и скоро уже все сирены Лондона выли у меня в голове, объявляя воздушную тревогу!
"Что же это за девочка, которая не знает, что такое метро, и понятия не имеет о телефоне?" — вот первый вопрос, который я себе задал.
В наше время надо жить уж в очень уединенном месте, чтоб не знать таких вещей!
А кстати, в каком это уединенном месте? Кэтрин Эрншо в своем письме говорила "здесь" ("атмосфера, которая царит здесь"), ни разу не уточняя, где именно. И этот ее X... Почему только инициал? Таковы были первые мои вопросы. Бесполезно задавать их Камо, главная забота которого — выяснить, на "вы" его называют или на "ты". Непонятно...
Насколько я мог понять из его взволнованных излияний, X. был найденыш, живущий в семье Кэти, этакий неисправимый бунтарь, который на все плюет, ничего не боится и любит только одно существо в этом мире: Кэти. Не столько сам X., сколько сила этой любви восхищала Камо.
— Он ради нее на все способен!
Случалось, когда мы вместе шли из школы, он вдруг останавливался как вкопанный, схватив меня за локоть. (Хватка — ого-го!)
— Знаешь, этот Хиндли, ну, ее братец, который все гнобит Х., ты не представляешь, какой это гад! Пьет с утра до вечера. На той неделе собственного сына ухнул в лестничный пролет. Хорошо, внизу оказался X. и сумел поймать ребенка на лету.
My God...
KING GEORGE
Сам не знаю, как я пришел к этой мысли. Пришел, и все. Интуиция, наверно. И вот я подловил нашего историка Бейнака, когда он выходил после урока, и спросил его:
— Скажите, месье, а путешественник Джеймс Кук, он нашего времени?
Этот учитель никогда не смеялся над нашими ошибками. Он их поправлял.
— Нет, конца XVIII века. Погиб в 1780-х годах — его убили туземцы Сандвичевых островов.
Должно быть, я изменился в лице, потому что Бейнак спросил полузаботливо, полунасмешливо:
— Что с тобой? Тебя настолько огорчила гибель капитана Кука? Он что, твой родственник?
Но я уже не слышал его, перед глазами у меня встали строки из письма Кэтрин Эрншо: "Вот бы о чем спросить нашего славного капитана Кука, правда?"
Сумасшедшая! Она вообразила, что живет в XVIII веке!
Камо переписывается с несчастной сумасшедшей, у которой мозги сдвинуты на два века назад! Ни метро, ни телефона — вот все и объясняется! А ее "здесь", "в этом доме" — которого она ни разу не назвала — это же сумасшедший дом, ясное дело. Жуткое заведение, где другие психи кидают живых младенцев в лестничный пролет! (Если, конечно, она и это не выдумала, бедняжка. Как выдумала, скорее всего, своего друга X., который существует только в ее больном сознании...)
— Камо, мне хочется перечитать то первое письмо Кэтрин Эрншо!
— Между прочим, мог бы назвать ее "Кэти"...
— Ладно, первое письмо Кэти. Дашь почитать? Его пришлось долго упрашивать. Он дал мне письмо только до завтра.
— С чего ты взял, что это почерк сумасшедшей? — спросил доктор Грапп, возвращая мне письмо.
Он был наш школьный врач. Я его очень любил, потому что он никогда не говорил, что я самый маленький в классе. Он говорил только, что я не самый высокий.
— И вообще, ты что, и вправду думаешь, что у сумасшедших какой-то особый почерк?
— Но столько зачеркнуто, перо аж бумагу рвет...
— Темперамент, надо полагать.
Он задумчиво, изучающее смотрел на меня поверх своих рыжих усов.
— Ты сам-то здоров? Спишь хорошо? Если переутомился, не стесняйся, давай сразу ко мне.
Я пошел к месье Пуи, учителю рисования. Вот уж кто был наш любимец. Волосы у него были встрепанные, как перья метелки, в карманах чего только не напихано, а на уроках рисования он говорил с нами в основном про кино. Каждый из нас поверял ему свои беды — под большим секретом и считая себя единственным. Он выслушивал нас с необычайным вниманием. И его ответы попадали прямо в точку. Именно то, что надо было сказать.
Сначала он долго разглядывал конверт.
— Интересно, слушай-ка, очень интересно! Где ты это раздобыл?
— У Камо, месье.
Потом он прочитал письмо, задумчиво кивая и приговаривая в такт:
— Да, так я и думал...
В конце концов вернул мне письмо и объявил:
— Английское.
Я только рот разинул, да так и остался. Английское? Да неужели? Но он пояснил:
— Английское, XVIII века. Старинное письмо, написано гусиным пером. Перо плохо очинённое, царапает бумагу.
Когда ко мне вернулось дыхание, я пролепетал:
— Вы имеете в виду, что это письмо написано в XVIII веке?
— Судя по всему. Впрочем, вот, посмотри.
Он перевернул конверт и показал мне восковую печать, оставшуюся на клапане. На ней были переплетенные инициалы: "К" и "Э".
— Такие монограммы были в ходу в XVIII веке. А есть и еще кое-что.
Смеркалось. На улице начинался дождь. Мы были одни в кабинете рисования. Он включил большие лампы под потолком, влез на стол и поднес конверт к самой лампочке.
— Вот, погляди.
Я забрался к нему и поднялся на цыпочки. Он ткнул пальцем в круглую печать, которая стала видна на просвет. Явственно прочитывалось: "KING GEORGE III", потом неразборчивые следы каких-то букв или римских цифр и начало даты 177... или 179...
— Может быть, почтовый штемпель, не знаю. Во всяком случае, сколько мне помнится, Георг III был на коне в конце XVIII — начале XIX века, ну, сам проверишь.
Дождь хлестал по стеклам. Сверкнула молния.
— Пожалуйте под душ, — проворчал месье Пуи, выключая в кабинете свет.
Он извлек из карманов две бесформенные шляпы (да, две, такие вот у него были карманы!) и нахлобучил одну мне на голову. По сей день так и слышу, как я спросил его, когда он запирал кабинет:
— Но ведь тогда... та, что написала это письмо, — она... ее ведь нет в живых?
Его смех раскатился по коридорам, в этот час уже пустынным.
— Если она еще жива, попроси ее поделиться рецептом бессмертия!
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Итак, повествование, как водится, оборвалось на самом интересном месте... Но не стоит отчаиваться! Издательский Дом "Самокат" предлагает вам, ребята, сыграть в интересную игру, победитель которой получит замечательный приз — все четыре книги Даниэля Пеннака о Камо! Участникам игры нужно ответить на три вопроса. Первый вопрос. Кто такая эта самая Кэтрин Эрншо? Второй вопрос. Чем, как вы думаете, закончилась история переписки Камо и Кэти? Третий вопрос. Кого из предложенного Камо списка адресатов для переписки вы знаете, и где их можно встретить? Срок ответов — месяц со дня получения журнала. Удачи!



